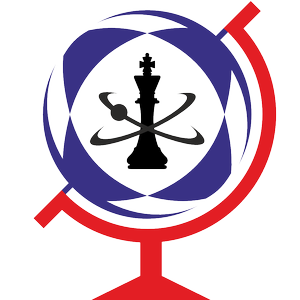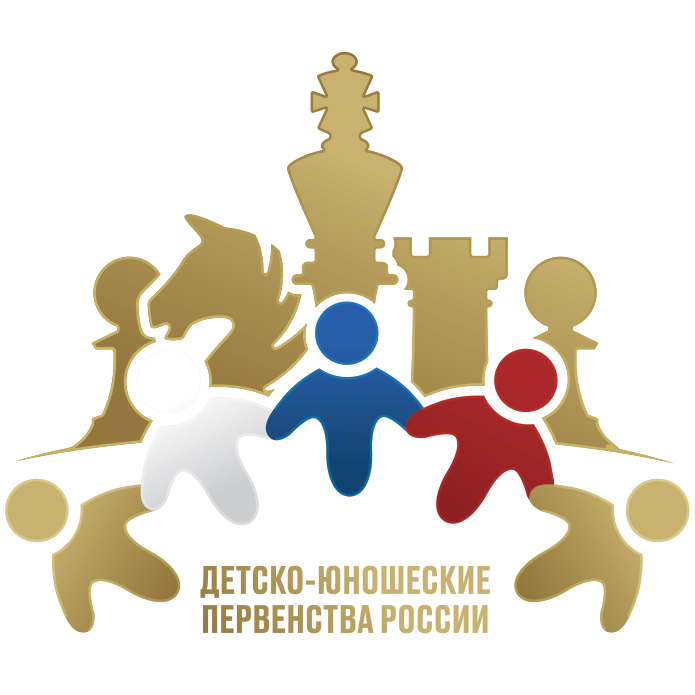Творческое наследие Рудольфа Шпильмана
Дмитрий Дмитриев завершает рассказ об известном шахматисте
Есть такая поговорка: «Старая слава новую любит». Многие ждали нового всплеска гениальности венского шахматиста на эпохальном турнире в Нью-Йорке в 1927 году. И сам Шпильман высоко оценил приглашение на это соревнование. В письме к одному из организаторов турнира Норберту Ледереру Шпильман писал: «Я чувствую глубокую потребность поблагодарить вас за ту заботу, которую вы проявили по отношению ко мне в Нью-Йорке. За время моей 25-летней шахматной карьеры я принял участие во многих турнирах, но никогда раньше не встречался с тем, чтобы меня принимали так искренне и бескорыстно, как это сделали Вы».
Шпильман также признается, что во время турнира в Нью-Йорке он держался подальше от своей страсти – пива. Это отмечал и великий американский шахматист Ройбен Файн, как-то заметивший, что «основным жизненным беспокойством Шпильмана были деньги, для того чтобы он мог купить неограниченное количество пива».В пиве было дело или нет, мы этого уже не узнаем. Однако Шпильман выступил очень бледно и занял предпоследнее место, победив в микроматче лишь Ф.Маршала и проиграв знаменитую партию Капабланке, который получил за нее 1-й приз за красоту и 125 долларов.
Х. Р. Капабланка — Р. Шпильман
Защита Рагозина
1.d4 d5 2.Nf3 e6 3.c4 Nd7 4.Nc3 Ngf6 5.Bg5 Bb4 6.cd ed 7.Qa4 Bхc3+ 8.bхc3 0-0 9.e3 c5 10.Bd3 c4 11.Bc2 Qе7 12.0-0 a6 13.Rfe1 Qе6 14.Nd2 b5 15.Qа5 Ne4 16.Nхe4 de 17.a4 Qd5

18.aхb5 Qхg5 19.Bхe4 Rb8 20.bхa6 Rb5 21.Qс7 Nb6 22.a7 Bh3 23.Reb1 Rхb1+ 24.Rхb1 f5 25.Bf3 f4 26.eхf4 1:0

После турнира в Нью-Йорке радость из жизни Шпильмана стала постепенно исчезать. Пожалуй, единственным светлым пятном в этот мрачный период стало издание книги, которая захватывала во все времена всех любителей шахмат. Тонкая работа «Теория жертвы» стала первой всеобъемлющей публикацией на одну из тем, которой Рудольф Шпильман был полностью очарован. Действительно, кто бы ещё должен был написать такую книгу? Последний романтик и признанный мастер атаки является именно этим человеком. Его наработки по жертвам позже стали основой для современных книг, а отличная подборка шпильмановских партий может быть рекомендована не только шахматистам, которые учатся и совершенствуют свою тактическую подготовку, но и всем тем, кто хочет видеть красоту в шахматах или просто весело проводить время.

Помимо «Теории жертвы» венский шахматист издал еще «Практические советы шахматистам» и «О шахматах и шахматистах», в которых щедро поделился своими шахматными секретами. Хочется пожелать читателям найти эти книги и приобщиться к литературному наследию венского мастера. Книги написаны очень живым языком!

В 1933 году к власти в Германии приходит Адольф Гитлер, что для еврейских семей стало настоящим несчастьем. Количество немецких, да и европейских шахматных турниров стало быстро уменьшаться. Прибывающие годы и наступающие на него политическая и жизненная ситуация отражаются на выступлениях Рудольфа. Его практические результаты все более ухудшаются. А тут еще и стал актуальным вечный «еврейский вопрос».
В 1932-м в Берне состоялся международный турнир, на который не были приглашены ни Капабланка, ни Ласкер, ни Шпильман. Неприглашенный Шпильман счел своим долгом опубликовать открытое письмо чемпиону мира Александру Алехину в журнале «WienerSchachzeitung» (Винер Шахцейтунг) № 10, 1932 г.
«J'accuse!» (Я обвиняю!) Автор – не Золя, а также не д-р Тартаковер, но: Рудольф Шпильман. Глубокоуважаемый господин чемпион мира д-р Алехин! Вы будете, вероятно, удивлены, господин чемпион мира, моей наглости, которая не останавливается даже перед ступеньками возвышенного престола чемпиона мира. Но я обвиняю! Конечно, не Вашу гениальную игру, к которой я, как энтузиаст шахмат, отношусь с глубоким уважением и полным восхищением. Нет. Моя жалоба направлена не против чемпиона мира доктора Алехина, а против коллеги д-ра Алехина. Потому что, несмотря на общеизвестное Ваше превосходство в шахматах, мы есть и остаемся Вашими коллегами по призванию, в которых Вы, в конце концов, нуждаетесь для создания Ваших бессмертных творений. В пословице говорится: «Богатство – это драгоценный нож, но надо им пользоваться для резки хлеба, а не для нанесения ран». Ваши предшественники Стейниц, Ласкер и Капабланка всегда этому следовали и приводили к лучшим общим условиям участников мастерских турниров. Вы не должны меня винить, если я теперь исследую, для каких целей Вы использовали до сих пор Ваше острое оружие чемпиона мира.
Поймите меня правильно: не зависть к Вашим заработкам двигает мною. Я был бы последним, который оспаривал бы Ваше доброе, довольно тяжело завоеванное право. Ведь во всех отраслях рекордные достижения особенно награждаются. Почему же этого не должно быть в шахматах? Но Вы в Сан-Ремо в 1930 г. и в Бледе в 1931 г., кроме экстра-гонорара, поставили еще особые условия и вследствие этого практически исключили Капабланку из этих турниров. Конечно, Вы не отказали Капабланке прямо, а прибегли к более скрытому способу, но это ни в чем не меняет сути дела, и потому я, как знаток этого дела, сумел всё узреть. Должен ли Капабланка за свою уверенную победу в Нью-Йорке в 1927 году так сурово искупать свою вину?
Но давайте похороним прошлое, оставим его в покое и займемся лучше Вашим коллегой Нимцовичем, который после Вас и Капабланки может считаться самым выдающимся шахматистом нашего времени. Не поразительно ли то, что он не получил приглашения ни в Лондон в 1932 г., ни теперь в Берн? По крайней мере, Вы легко могли бы добиться приглашения для Нимцовича. Как доктору юридических наук Вам знаком термин «doluseventualis» Но это не всё. Стал ли я, бедный скрипач, который только и может дышать горним воздухом, настолько неприятным конкурентом? Чем еще можно объяснить мое внезапное выселение из бернского высокогорья после того, как я более чем два месяца тому назад получил приглашение, правда, весьма боязливо составленное, на вселение в квартиру.
Бернский комитет ссылается на то, что из-за Вашего дополнительного обещания был приглашен сверх комплекта ещё один международный мастер. Шапки долой перед Вашей безупречной репутацией! Но какая сила мира, кроме воли чемпиона мира, могла бы помешать швейцарской шахматной организации допустить семерых международных мастеров вместо шести? Тогда бы швейцарская армия была бы в количестве только 9 человек, что вполне бы хватило для результатов турнира. Итак, мой милый чемпион мира, именно таким путем Вы «колотите» своих соперников, чтобы и в дальнейшем Вам удались ещё большие достижения, которым бы восхищался весь шахматный мир. Но отучитесь командовать, иначе я буду вынужден процитировать Вам библейские слова пророка Осии в свободном пересказе Марка: «Кто сеет ветер – пожнет бурю». Чаша переполнилась, по эту и по ту сторону океана умножаются голоса, которые восстают против диктатуры чемпиона мира. Рудольф Шпильман».
Первый пересказ письма на русском языке был сделан в журнале «Шахматы и шашки в массы» № 7 за 1932 год, с.145,. На русском языке полностью открытое письмо Рудольфа Шпильмана к чемпиону мира была опубликована в журнале «64 – Шахматное обозрение», № 4 за 1991 год. Оно было включено в книгу Пабло Помара «Агония одного гения».

…Необходимо объяснить заголовок письма Шпильмана «Я обвиняю! Не по Золя и не по Тартаковеру». Эмиль Золя 13 января 1898 года опубликовал в газете «L’Aurore» открытое письмо, адресованное президенту республики, в котором утверждалась невиновность Альфреда Дрейфуса и обвинялся Генеральный штаб и военное министерство в подтасовке фактов. Ясно, что пассаж Шпильмана имел в виду и антисемитизм Алехина! Что же касается «не по Тартаковеру», то это намек на бурную теоретическую полемику между Савелием Тартаковером и Семеном Алапиным. Статья Тартаковера, опубликованная в журнале «Kagan's Neuste Schachnachrichten» за 1922 год, называлась «J'accuse! не поЗоля, а только по д-ру С. Тартаковеру», с ироническим введением в духе Алапина и латинской вставкой. С. Алапин отвечал не менее темпераментно в статье «Mene Tekel Upharsin!» (Исчислено, взвешено, разделено), используя библейское выражение из книги Даниила и за подписью Великого Инквизитора.

Как видно из характера письма, Шпильман не всегда был таким уж добродушным, и когда надо, умел отстаивать свои принципы!

В 30-х годах, несмотря на возраст, Шпильман сохранял немалую практическую силу. Так, на турнире Маргите-1938 он занял второе место, пропустив вперед лишь Александра Алехина. (Его итоговый счет с первым русским чемпионом составил 2:4 при десятке ничьих.), Увы, весной этого же 1938 года Австрия была оккупирована войсками Гитлера, в стране началось уничтожение еврейского населения. Рудольфу пришлось бежать в Швецию, бросив все, и существовать на новом месте в полной нищете.
Переезд в Швецию, несомненно, спас ему жизнь. Его брат был арестован и убит в 1941 году в концлагере, та же судьба постигла и одну из его сестер. Вторая сестра Рудольфа пережила концентрационный лагерь, но нанесенная ее психике травма добила её – в 1964 году она покончила собой. Сам Шпильман в Стокгольме тоже не находит себе покоя. Приступы депрессии становятся для него обычным явлением.

И все же он пытается строить планы: думает о переезде в Англию или даже Америку, дает сеансы, комментирует партии для журналов. Пытается писать большую шахматную книгу под названием «Мемуары шахматного мастера». Эта книга была его последней надеждой заработать, чтобы уехать в США. Но Швеция в то время жила в страхе перед вторжением Гитлера. Часть шахматной федерации Швеции была настроена пронацистски, и присутствие гроссмейстера-еврея, учитывая возможную оккупацию Швеции немцами, мало кого вдохновляло. Поэтому издание книги воспоминаний гроссмейстера, заказанной федерацией, все время откладывалось… Все надежды Рудольфа Шпильмана улетучивались.
В конце августа 1942 года, находясь в полном отчаянии, он заперся в своей комнате и не выходил из нее несколько дней. Когда соседи вызвали полицию и взломали дверь, гроссмейстер был найден бездыханным. Вероятно, он умер от голода. Больница в Стокгольме констатировала смерть в результате гипертонии и кардиосклероза. Так трагически оборвалась жизнь одного из выдающихся и блестящих шахматистов первой половины XX века.

Поговорим немного о вкладе Шпильмана в теорию дебютов. В основном, он был специалистом в области открытых начал. Прежде всего, Королевского гамбита, Дебюта слонаи Венской партии. Однако и в развитие теории закрытых дебютов он внес свой оригинальный вклад. Так, его именем был назван разработанный им вариант защиты Нимцовича (1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Qb3). Интересное оригинальное продолжение, на которое, хочется надеяться, со временем вновь обратят внимание «сильные мира сего».
Ему принадлежит и авторство такой вот нестандартной системы: 1. d4 Nf6 2. Nf3 c5 3.d5 d6 4.Nc3 Bf5!? В ней у него был положительный баланс очков. Проиграв только Акибе Рубинштейну, он выиграл в остальных партиях. В одной из них так:
Э. Грюнфельд – Р. Шпильман
Пьештяни 1922
1. d4 Nf6 2. Nf3 c5 3.d5 d6 4.Nc3 Bf5 5.Nd2 g5 6.e4Bg6 7. Be2 Bg7 8.0-0Nbd7 9. Re1 0-0 10.Bf1 Ne5 11.Nf3 Nxf3+ 12.Qxf3 h6 13.Qd1 Nd7 14.Be3 Ne5 15.f3 f5 16.exf5 Bxf5 17. Bf2 Qe8 18.Rc1 Qg6 19.Kh1 Rf7 20.Qd2 Raf8 21.Be3 Qh5 22.Bg1 Bc8 23.Be3 g4 24.f4 g3 25.h3 Ng6 26. Ne2 Qh4 27.c3 Bg4 28. Qd3

28…Ne5! 29.fxe5 Bxh3 30. Bg5 Bxg2+ 0-1
Имя Шпильмана должна была носить и система 1 d4 d6 2 Kf3 Cg4!?. Это отмечает в своей дебютной монографии «Универсальное оружие» В. Барский: «Мегабаза услужливо подсказывает, что впервые этот ход встретился в партии Тартаковер – Шпильман (Нордвейк-ан-Зее 1938). Может быть, поэтому в некоторых источниках ее называют «системой Тартаковера?» Хотя логичнее было бы назвать ее в честь Рудольфа Шпильмана, верного рыцаря Королевского гамбита и других заковыристых дебютов». Наверное, действительно так логичнее! Однако, «подслеповатая дама» наименовала ее «Вариантом Вейда». Может быть, потому что Шпильман не выиграл?
С. Тартаковер – Р. Шпильман
1. Nf3 d6 2.d4 Bg4 3. e4 Nf6 4. Bc4 e6 5.Qe2 Nc6 6.Bb5 a6 7.Bxc6+ bxc6 8.e 5 Nd7 9. exd6 cxd6 10.Qe4 Bxf3 11.Qxf3 Qb6 12.0-0 d5 13. Rd1 Be7 14.b3 Bf6 15. Be3 0-0 16.Nc3 Qc7 17.Bf4 Qa7 18.Ne2 Rfe8 19.Rac1 e5 20.Be3 exd4 21.Bxd4 Qb8 22.c4 Ne5 23. Bxe5 Qxe5 24.Nd4 Rac8 25.cxd5 cxd5 26.Rxc8 Rxc8 27.g3 g6 28.Qd3 Qd6 29.Kg2 h5 30.h4 Qb6 1/2-1/2

Что касается полуоткрытых дебютов, то тут именем Шпильмана названа атака 1.e4 Nf6 2.Nc3 d5 3.e5 Nfd7 4.e6!? в защите Алехина. Эту, по терминологии венского шахматиста, «тормозящую жертву» пешки Шпильман применил в матче с С. Ландау в Роттердаме в 1933 году. Премьера прошла триумфально!
Р. Шпильман – С. Ландау
Защита Алехина
1. e4 Nf6 2. Nc3 d5 3.e5 Nfd7 4. e6 fxe6 5.d4 Nf6 6. Nf3 c5 7.dxc5 Nc6 8. Bb5 Bd7 9.0-0 Qc7 10. Re1 h6 11.Bxc6 bxc6 12.Ne5 g5 13.Qd3 Rg8 14.b4 Bg7 15. Qg6+ Kd8 16.Qf7 Be8 17.Qxe6 Rf8 18. b5 Ne4

19. Rxe4! dxe4 20.Bf4 Bxe5 21.Bxe5 Qd7 22.Rd1 cxb5 23.Rxd7+ Bxd7 24.Qxh6 Rg8 25.c6 Be8 26. Nxb5 1-0
Также именем Шпильмана наименован вариант защиты Каро-Канн 1.e4 c6 2 Nc3 d5 3.Qf3!? Однако, что интересно, сам Шпильман так не играл ни разу! Как же вариант получил его имя? Что это за мистификация? Остановимся на этом подробнее.
На 16-м турнире памяти Требиша, в котором участвовали 16 человек и который проходил с 12 ноября по 6 декабря 1933 года в венском Палас-отеле, в 6-м раунде встретились Рудольф Шпильман и Иосиф Кольнхофер. После ходов 1.е4 с6 2.d4 d5 3.Nc3 dхe4 4.Nхe4 Bf5 Шпильман сыграл 5.Qf3, прокомментировав это следующим образом: «Старая идея Кмоха, которая, возможно, была бы пригодна для того, чтобы избежать возникающих после 5.Ng3 позиций скучной ничьей». Партия, действительно, получилась нескучной, как часто бывало у Рудольфа. Но результат был для него печален: Шпильман эту партию проиграл. А выступающий только на местных турнирах венский шахматист Иосиф Кольнхофер добился при своем дебюте значительного результата, поделив 7-е и 8-е место, и победил, наряду со Шпильманом, также Альберта Беккера.
Однако комментарий Шпильмана к 5 ходу был оспорен другим венским шахматистом Гансом Мюллером, утверждавшего следующее: «Этот ход придуман не Кмохом, а, к сожалению, рано ушедшим из жизни венским шахматистом-любителем Рудольфом Мюллером, который, чтобы изучить преимущества этого хода, уже в первые послевоенные годы сыграл с автором этих строк посвященное данной теме пробное соревнование на примере 8 партий». Интересно, что и сам Кмохне хотел брать на себя лавры первооткрывателя, скромно оставляя себе лишь роль популяризатора данного продолжения: «Я никогда не утверждал, –писал он,–что ход 5. Qd1-f3 «происходит» от меня. Я только пробудил к нему общественное внимание. Между тем, возможно, что это еще раньше сделал кто-то другой. Но если Ганс Мюллер приводит в качестве аргумента свое тайное противостояние против Рудольфа Мюллера, то это в любом случае необоснованно. В неизвестных общественности партиях этот ход наверняка уже часто имел место быть. Я мог ведь, следуя за другими аналитиками, утверждать, что этот ход уже применялся в 1913 году против господина Шульца».
А вот кто действительно потрудился над развитием варианта, так это американский шахматист, теоретик и общественный деятель Варрен Г. Гольдман, о котором в следующих публикациях следует рассказать отдельно!
Возвращаясь к Шпильману, можно резюмировать, что имя первооткрывателя варианта кануло в Лету. А «отцовство» Шпильмана относительно этого продолжения носит случайный характер.
Хотелось бы затронуть историографическую проблему и отметить тот печальный факт, что на русском языке специального исследования, посвященного творчеству знаменитого венского маэстро, нет. А вот на английском достаточно. Интересующихся читателей отсылаем, например, к прекрасной книге Нейла Макдональда «Themasters. Rudolf Spielmann Master of Invention» (издательство Everyman Chess).

Подборка избранных миниатюр Шпильмана достойно представлена в следующей книге Николая Минева:

А примеры атак - в книге Эрика Шиллера «Учитесь Атаковать с Рудольфом Шпильманом» (изд-во Ishi Press)

Хочется надеяться, что в будущем все же появиться достойная монография на русском языке, посвященная творчеству венского Мастера комбинаций. Данная статья призвана хотя бы частично восполнить этот пробел!
В заключение – небольшой отрывок из литературных штудий Рудольфа Шпильмана и связанная с ним зарисовка о путешествии, которое приятно вспомнить в карантинные дни:

Шпильман пишет: «Рассмотрим совсем примитивную ловушку, самую примитивную, какую я когда-либо видел в своей жизни. Она имела место в партии, игранной между двумя слабыми любителями в кафе «Централь» в Вене. В этом безотрадном для черных положении они сыграли Rа8-b8 – ход, смысл которого остался мне совершенно непонятным, хотя бы уже потому,что я не представлял себе силы обоих партнеров. Но когда игравший белыми сначала с усмешкой побил Rxа7???, а затем после Qb6+ и Qxа7 испустил горестный вопль, я внезапно понял все. Ход ладьей на b8 был ловушкой, ловушкой чистейшей воды!»
Этот эпизод вспоминается мною в связи со следующими событиями личного характера. В июне 2019 автор этих строк вместе со своим другом – шахматистом Александром Крыловым решил посетить Вену для участия в традиционном «Wolfmayer Open 2019». Быть в Вене и не посетить знаменитое кафе«Централь» было бы, конечно, невозможно, и мы, взяв с собой шахматную доску, отправились в это заведение попить венского кофе и немного поблицевать. Однако по приходу мы были неприятно удивлены, узнав, что в бывшей «шахматной Мекке» Вены теперь в шахматы играть… нельзя! (из-за запрета на «азартные игры»). Sictransit gloriamundi!
Мы успели сыграть лишь одну партию «в ритме блиц». Играя черными, автор этих строк оказался в дебюте просто повержен на лопатки после ходов 1.е4 е5 2. Nc3 Nf6 3.Nf3 d6 4.d4 Nbd7 5.g4!? h6 6.g5 hхg5 7.Nxg5 Be7? 8. Bс4 Rf8?, зевнув простую ловушку 9. Bхf7+! Rхf7 10.Ne6 + -
Но попадать в коллекцию Мацукевича очень не хотелось, и пришлось сильно упираться, учитывая «кафейный» характер партии. Как мне удалось выиграть, до сих пор не пойму. Не иначе, благоволил боевой дух Шпильмана!